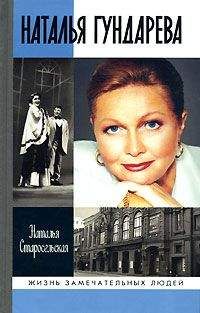Александр Кудрявцев - Я в Лиссабоне. Не одна[сборник]
Мне все понравилось сразу. Смуглая кожа: нежная, запах не чужой, теплый, практически неощутимый. То, что закрыла глаза сразу же, — понравилось, голос, да, у нее хороший голос, низкий и спокойный. И она умеет отдаваться. Вот это меня покорило, проняло до легкой трясучки, которая меня настигала не раз, когда я потом думал о ней, а думал я о ней часто. Она здорово отдалась мне. Сразу. Не сексу, не процессу, а именно мне. Направляла руками, стонами, реагируя на каждое движение, на смену ритма. Было как-то захватывающе очень. Без мыслей. Я погрузился полностью.
И мне нравилось ее имя, Юлия. Юля. Отдельно от нее оно мне не нравилось никогда, а ей оно подходило, она его сделала собой, наполнила собой, и теперь Юлией звали ее одну в мире.
И когда мы уже кончили, когда валялись на тахте в обнимку, я подумал, что мне хорошо — вот так, с ней, очень-очень хорошо мне. Она рассматривала мое лицо. Глаза серьезные, тихий такой взгляд, немного прищуренный, с непонятным выражением, нечитаемым. Можно сказать — никаким. Я подумал, что вот это, наверное, и значит — далеко. Или «вещь в себе». Другие мои партнерши смотрели после секса или с вопросом, или с нежностью, да и с ненавистью бывало. Особенно наутро, когда я заменял забытое напрочь имя «зайчиком» и «красавицей», отступая к выходу с нечаянно завоеванной и сразу же отданной обратно территории.
— Ты красивый, — мягко, ободряюще, пожалуй, сказала Юля. — Ты мне нравишься. Да, — подтвердила самой себе, как будто сверилась. — Давай встретимся еще раз.
И на следующий день я почти ничего не чувствовал. Или уже влюбился? Детское слово… Нет, наверное, еще нет. Позвонил после обеда, от голоса в трубке стало тепло и спокойно: объемный голос, многоцветный, голосволна, сразу ясно, о чем она думает, в каком настроении. Ее «привет» было хорошим, принадлежащим конкретно мне, ну, и я поплыл.
Приехал вечером, привез цветы, не знал, что еще купить, поэтому взял тюльпаны с неровными краями — попугайские тюльпаны разноцветные. Пока ехал, мне захотелось что-то сделать для нее. Банк ограбить или зарезать кого-нибудь. Спасти, чтобы погоня и перестрелка, и мчать в темноте — с визгом тормозов на поворотах, и чтобы звали меня Джо, Рон или лучше Адам с ударением на первую «А», и пахло порохом в воздухе. И быть раза в полтора мощней (я тогда худоват был и только завязал носить спортивные штаны под джинсами зимой, чтобы казаться плотней). Комплексовал слегка.
А сколько у нее было до меня? Десять? Тридцать? Сто? А вдруг я что-то делаю не так? Или нет, лучше об этом не думать. Но точно ли ей было по-настоящему кайфово? То, что она кончила, — да, так не сымитировать, да и она совсем не из таких. Нет, ей было хорошо, но достаточно ли? И почему меня это должно настолько волновать? Такие мысли были. Лучшим быть хотелось, или особенным хотя бы.
Второй раз был как первый. Новый. Мы занимались сексом при свечах, она сверху, расслабленная и довольная (у нее что-то радостное случилось днем то ли на работе, то ли еще где-то — праздничное настроение было у нее). Очень обрадовалась тюльпанам, искренне так улыбнулась, я сразу захотел чем-то ее удивить еще, поразить по-настоящему, но никак не мог придумать чем.
А потом она включила триллер — хороший, кстати, — мы валялись, пили вино на этот раз, ели мясо — она его вкусно приготовила — я так и заснул нечаянно. Не подарив ей ни одного необитаемого острова, как герой триллера, и ни одной страны третьего мира не завоевав. Но она гладила мою голову, как героя гладят, — так, засыпая, думал я.
Еще Юля все время рисовала, чертила, точнее. За завтраком, болтая по телефону, слушая музыку. Чертила линии, дома, частично проявляющиеся в нашем мире из белого пространства ненарисованного, тщательно, идеально четко заштриховывала прямоугольные грани и окружности. И сама точила карандаши узким ножом, длинные-длинные стержни торчали так, что казалось — невозможно таким рисовать, сломается. Но нет, у нее не ломались. И напевала всякую чушь. Бессмысленную и нелогичную, вроде: «И валяясь под кустом, громко щелкая хвостом». Кто — «валяясь»? Но забавно.
Конечно, у нее был муж в прошлом, но закончился давно. Про него я не спрашивал. И о других тоже. А детей она не хотела. Говорила, что никогда не хотела.
— Ни от кого? — спросил я.
— Я не поняла вопроса, — ответила она, в глаза глядя отстраненно, отталкивая. И ведь так и есть — это не про нее вопрос. При чем тут кто-то?
Я проснулся тогда ночью, после второго раза, не сразу понял, где я и почему. Обнял ее и заснул снова. Раз уж так вышло. Утро было кратким и практически немым. Но без напряжения. Умылся, съел бутерброд с сыром, кофе выпил и ушел. Тогда я много работал, много говорил, все происходило быстро, было важным, ярким и немного радостным — все эти рабочие процессы, встречи, победы, провалы. Может быть, потому, что был апрель.
Иногда мне хотелось ее разозлить, особенно вначале.
— Ты специально? — спросила она после того, как я раскритиковал ее любимую книгу заодно с привычкой надо всем смеяться, с ее дурацкой привычкой отстраненного стеба, взгляда якобы невозмутимого наблюдателя за «этими человеками».
— Ну, порычи на меня ради разнообразия.
— В смысле?
— Ты привыкла играть за двоих, — сказал я ей тогда. — Ты не играешь всерьез: открываешь карты, даешь фору, на все промахи противника смотришь сквозь пальцы. Ты играешь за двоих, причем против себя. И все равно выигрываешь. Потому что хочешь, чтобы тебя обыграли, надеешься на это. Сильного ждешь, такого, который игральный стол перевернуть может. Когда ты злишься, у меня возникает иллюзия диалога, понимаешь? Ты хотя бы рычишь на меня, не на себя же.
— А ты интересный мужчина, — сказала Юля. Да. Она ни разу не сказала «мальчик». И вообще в ней не было этого — снисходительности к моему возрасту, ни разу рукой не махнула в разговоре, мол, «да что ты понимаешь», ни разу не съерничала. И никаких «у тебя все впереди» или «я в твоем возрасте».
Потом я признался ей в любви.
— Я тебя люблю, — сказал.
Она нахмурилась, прищурилась, приблизила лицо вплотную, глаза в глаза, почти соприкоснулась зрачками со мной (во всяком случае, было особенное ощущение от ее взгляда — касательное, что ли). Отодвинулась. И вдруг как бы сбросила напряжение — подняла рюкзак невидимый и кинула на пол. С грохотом металлическим упал, будто в нем инструменты лежали. Молотки. И гвозди.
— Нет, — говорит, — не любовь. Это — не любовь. Ну, подожди, не отворачивайся, не злись.
Я и не думал злиться, кстати. Я был как большой пес в тот момент, мохнатый пес-медведь, не способный злиться. Обреченный. Хотелось лечь на пол у ее ног и закрыть глаза. И чтобы она гладила меня и была мне хозяйкой до самой моей собачьей смерти, то есть навсегда. Но я продолжал сидеть вполне себе по-человечьи. А Юля стала говорить. Тогда я впервые подумал, что она — неземная, когда слушал ее. Инопланетная. В синем.
— Я тебе скажу, как мне кажется. Любовь… Настоящая любовь… Нет, я не из тех, кто считает, что она бывает однажды. Но это что-то такое. Истинное, без вариантов. Одиночество — вот то самое, глубинное — одиночество, от которого жутко, понимаешь? Вот оно есть всегда и не отступает ровно до того момента, когда все-все желания, мечты, образы, ощущение тела, цвета, звука голоса, запахов не совпадает вдруг в одной точке.
Она подтянула ноги, скрестив их, и я подумал, что люблю ее ступни. И мизинцы. И пятки.
— И только в тот момент понимаешь: в моей жизни не было ничего более настоящего, чем этот человек. И тогда одиночество навсегда покидает. Как будто кто-то зажег свет там, где никогда не было света. И после этого ты знаешь Свет.
Мне захотелось встать и уйти. И никогда ее не видеть больше. Я невпопад кивнул и кашлянул, стал рассматривать ее руки, рисующие в воздухе звезды невидимые.
— Этот человек — самый настоящий. Нет ничего реальней его и этого чувства, которое связывает тебя с ним.
До этого человека, до этого чувства мир был относительным, понимаешь? Условным. И ничто никогда не было похоже на ту определенность, которая возникла. И эта определенность стала реальностью, перед которой нет выбора. — Юля разделила одну большую космическую туманность рукой на две неровные части. Одна из них, которая поменьше, моментально была съедена черной дырой. Вторая осталась при Юле. — Ты понимаешь меня? Я не знаю, сколько раз можно полюбить по-настоящему. Но эта определенность — появляется как-то раз. — Она дернула головой, вернувшись на планету людей, отгоняя невидимую муху или «Боинг-777». — Эта определенность меняет все пожизненно.
Мне захотелось умереть прямо сейчас и здесь. Такой разговор…
— Иди ко мне, — протянула она соломинку утопающему, очнувшись. — Я — глупая баба, иди ко мне, пожалей меня. Прости, я. — и рукой махнула, свернув слова и космос в ладонь.
Дальше все было просто и непросто. Когда я был в ней, закрыл глаза и словно попал в колодец: меня утягивало куда-то вниз, в воронку, уносило с нехилой скоростью, я падал вначале в уютную мягкую темноту, затем где-то вдали проявились синие огни, удивительно светящиеся — они росли и приближались, заполняя все пространство вокруг, потом все вспыхнуло, синие огни взорвали мою тонкую человеческую оболочку и поглотили целиком.